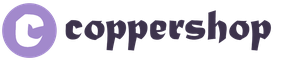И начнет рассказ свой месяц
Яков Петрович Полонский почти ровесник А. К. Толстого - он родился двумя годами позже, в 1819 году, кроме того, если верить преданию, бытовавшему в семье Полонских, то оба поэта были даже в родстве: бабушка Полонского по материнской линии считалась побочной дочерью одного из графов Разумовских (мать А. К. Толстого была побочной дочерью А. К. Разумовского). Однако, в отличие от богатого и аристократического дома Толстого, Я. П. Полонский вырос в бедной, провинциальной мелкочиновничьей семье.
Двадцатилетний мечтательный провинциал приехал из Рязани в Москву и поступил в университет, не на филологический факультет, как ему бы хотелось (он уже писал стихи), а на юридический - для филолога у него недоставало знания иностранных языков, к тому же он обладал плохой памятью, что мешало их запоминанию. Студенческие годы Полонского омрачены постоянной бедностью, он плохо одет, живет впроголодь. Несмотря на широкий круг знакомств среди передовой интеллигенции и литераторов - Хомяков, Грановский, Чаадаев, Тургенев, Самарин, Вельтман и др., - он чувствует себя совершенно одиноким. Он дает уроки в аристократических домах, и положение бедного учителя, на которого смотрят как на существо низшей категории, глубоко задевает его самолюбие. Сближению Полонского с передовыми кругами мешала разница мировоззрений - радикализм суждений интеллигенции кружка Станкевича отпугивал Полонского, "наивно верующего, выросшего среди богомольной и патриархальной семьи":
Мне было жаль волшебных снов,
Отрадных, детских упований
И мне завещанных преданий
От простодушных стариков.
Сам Полонский обладал мягким и простодушным характером и, несмотря на искушения "демона сомнения", так и не пришел к "последнему ожесточению". Принято считать, что комплекс социальной неполноценности, который терзал Полонского, постоянно уязвляемого бедностью, отразился на его творчестве, сообщая ему ноты неуверенности, грусти, заставляя его "лавировать" между различными направлениями, в результате чего появлялись произведения, лишенные органичности и самобытности. Однако люди другой душевной организации, оказавшись в положении социально ущемленных, как, например, Фет или Герцен, и в плане жизненного самоопределения, и в творчестве вели свою линию твердо и независимо. Значит, определяющими в каждом случае следует считать природу души, личностные качества, иначе, сравнивая людей, поставленных в сходные условия, мы должны были бы ожидать от них сходного же поведения. Полонский писал Фету: "Ты человек, во сто раз более цельный, чем я. Ни про кого нельзя сказать то, что можно о тебе.
Сразу ты был отлит в известную форму, никто тебя не чеканил, и никакие веяния времени не были в силах оттолкнуть тебя". Несомненно, уязвленное самолюбие не раз диктовало Полонскому то стихотворение, то письмо, то поступок, но форма реагирования определялась свойствами его характера, мягкого и созерцательного.
Первый поэтический сборник Полонского "Гаммы" вышел в 1844 году и был благосклонно встречен и критикой и читателями. Однако жить на литературные заработки было для молодого поэта делом невозможным, приходилось искать какого-то определенного места, службы. Из Москвы Полонский едет в Одессу, затем в Тифлис, где получает место в канцелярии наместника Грузии графа Воронцова. Четыре года, проведенные поэтом на Кавказе, нашли яркое отражение в его творчестве. Пестрая экзотика, местный колорит, дикая и живописная природа "чудной" страны, "так страстно любимою солнцем и - выжженной солнцем", - все это наполняет сборник "Сазандар", выпущенный поэтом в Тифлисе.
Из Тифлиса Полонский возвращается сначала в Москву, затем переезжает в Петербург. На петербургское общество, как вспоминает современница, Полонский не произвел выгодного впечатления: "Серьезный и рассеянный, бродил он, охотнее слушая, чем говоря, и очень неохотно и по большей части плохо читал свои произведения. Он не умел потрафлять на мнение большинства... ни... едким отрицанием нравиться меньшинству. В лире Полонского нет тех струн, которые выражают гражданскую скорбь и гражданскую радость, и он ни одним звуком не коснулся той тревожной эпохи, точно не видел и не знал, что происходит вокруг". В 1855 году вышло большое собрание произведений Полонского, включившее лучшее из того, что он написал за пятнадцать лет. Некрасовский "Современник" тепло встретил выход в свет этого собрания, оценивая Полонского как поэта "не первоклассного", но "честного и истинного".
Несмотря на литературные успехи, Полонский по-прежнему испытывал материальную нужду и вынужден был поступить домашним учителем в семью А. О. Смирновой-Россет. Положение это тяготило Полонского, и, выехав со Смирновыми за границу, он расстался с ними, намереваясь заняться живописью, к которой у него были большие способности. Однако обстоятельства сложились так, что кисти пришлось оставить и снова взяться за перо. В конце 1858 года Полонский возвращается из заграницы в Петербург, где в конце концов удалось ему занять место секретаря комитета иностранной цензуры, что гарантировало ему относительное материальное благополучие.
Лучшие поэтические произведения Полонского - образцы чистейшей лирики. Мелодичность, задушевность, интимность его стихотворений, насыщенных часто бытовой, обыденной лексикой, способствовали тому, что многие из его стихотворений не только были положены на музыку различными композиторами, но стали истинно народными песнями, чье авторство неизвестно ни исполнителям, ни слушателям. Таковы "Песня цыганки", "Узница", "В одной знакомой улице..." и т. п. В этом отношении Полонский как раз поэт "для многих". "Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз "Мой костер в тумане светит...", - писал А. А. Фет. Однако время, в которое он жил, требовало иных песен, наполненных гражданским пафосом. Этого пафоса органически чужда лира Полонского. В стихотворении "Для немногих" поэт сам анализирует ее возможности: "Мне не дал бог бича сатиры" "В моей душе проклятий нет..." и приходит к грустному выводу: "...Для немногих я поэт". Безусловный демократ по своим воззрениям, Полонский лишен был озлобленности, ожесточенности. "Искусство есть - а злости мало", - пишет он о себе. "Злость стала людям дорога" - так понимает он свою эпоху. Он же, поэт, сравнивающий Россию с океаном, а себя с волной, внутренне откликающийся на все веяния времени, не призван витийствовать. В одном из стихотворений он сравнивает поэта (и можно с уверенностью сказать, что он имеет в виду себя) с нищим, который все, что ни собирает в течение дня, раздает потом таким же обездоленным, как и он сам: "И все, что жизнь ему ни шлет,
Он с благодарностью берет -
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам..."
"Ты больше мыслил, я - любил", - пишет он И. С. Аксакову, автору "жестких, беспощадных" стихов. Разница между Аксаковым и Полонским в том, что первый, "как врач", изучал "корень общественного зла", в то время как второй "...выжал сок его, пил, душу отравляя
И заглушая сердца плач".
Чрезвычайно характерно для понимания миросозерцания Полонского стихотворение "Я ль первый отойду из мира в вечность - ты ли...". В этом маленьком, очень органичном для него стихотворении, идущем из сердца, поэт говорит "об этой злой земле", где владычествует страсть к наживе, где голодают люди, где царят ложь и лицемерие, где добро слишком робко, "а правда так страшна, что сердце ей не верит", и тем не менее заканчивает он свое стихотворение, в котором перечисляются ужасы, способные поразить небо, словами: "Но...
Ты скажи, что я не проклинал;
А я скажу, что ты благословляла!.."
Эта позиция примиренности, "плач сердца" и неспособность проклинать - неотъемлемые свойства души и лиры Полонского. Слушается он их - и из-под его пера вырываются истинные поэтические перлы:
Отчего я люблю тебя, светлая ночь -
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..
Ночь, сумерки, сны и мечтания - вот частые темы стихотворений Полонского: Улеглася метелица... путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых очей...
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!
Любовь в поэзии Полонского - это чаще всего грустное и умиленное воспоминание о том, что было и погибло, это мечта о невозможном счастье, это тревожное предчувствие несчастья, это опасение за будущее, которое неизбежно обречено на страдание...
Заплетя свои темные косы венцом,
Ты напомнила мне полудетским лицом
Все то счастье, которым мы грезим во сне,
Грезы детской любви ты напомнила мне.
Во многих лирических стихах Полонского, в которых говорится о любви, встречаются отголоски тяжелых переживаний поэта, вызванных смертью его первой жены, умершей в двадцатилетнем возрасте.
В 80-х годах Полонский, отдавший некоторую дань "гражданской" теме в 60-е годы, возвращается к свойственной ему, излюбленной лирико-интимной теме. яков полонский поэт лирика
Тургенев писал Полонскому: "Ты один можешь и должен писать стихи; конечно, твое положение тем тяжело, что, не обладая громадным талантом, ты не в состоянии наступить на горло нашей бестолковой публике - и потому должен возиться во тьме и в холоде, редко встречая сочувствие - сомневаясь в себе и унывая; но ты можешь утешиться мыслью, что то, что ты сделал и сделаешь хорошего - не умрет, и что если ты "поэт для немногих" - то эти немногие никогда не переведутся". Лучшим же в творчестве Полонского Тургенев считал именно его лирику. "Даровитейшим" лириком называл Полонского и А. Григорьев, который находил очарование "в туманном, мечтательном, вечерней или утренней зарею облитом колорите вдохновений Полонского".
Вечные источники вдохновения - природа, любовь, мечты - неотразимо привлекают к себе сердца почитателей поэзии во все времена. В лирике Полонского много совершенно новых, неожиданных, им открытых образов: "Пришли и стали тени ночи" "От зари роскошный холод проникает в сад" и т. п. Эти находки Полонского, вся его самобытная поэзия были по достоинству оценены его выдающимися современниками - Тургеневым, Фетом, Достоевским, Чеховым, и они же оказали существенное влияние на развитие "новой" поэзии, - известно, как много дал Полонский молодому Блоку.
Тургенев так отзывался о творчестве Полонского: "Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений".
Доброта и кротость Полонского сочетались в нем с твердостью убеждений. Когда, отступая от наиболее органичной ему темы интимной лирики и фантазии, он писал гражданственные стихи, то это не было "лавирование" за пределами его убеждений: просто он в этого рода стихах отходил от наиболее свойственного ему рода поэзии. Насколько неколебим был он в главном, в том, что составляло основу его миросозерцания, показывает его полемика с Л. Н. Толстым. Весной 1898 года, за полгода до смерти, Я. П. Полонский, больной, дряхлый и почти ослепший, выступает против идей, содержащихся в трактате Толстого "Что такое искусство". В письме Толстому Полонский пишет: "Между нами прошла пропасть, так как Вы отрицали все для меня святое - все мои идеалы: Россию, как народ и как государство, церковь и проповедь, таинство брака и семейную жизнь, искусство и присущую ему красоту... Никак не могу я понять, как можно совершенствоваться в этом направлении. Миллионы братьев наших, хотя и отживших, но все же братьев, поклонялись и Рафаэлю и Данте, славили гений Шекспира, сливались воедино душой и сердцем, внимая Бетховену, изучали Канта и двигали вперед науку, естествознание... словом, были лучшими двигателями человечества, как в умственном, так и в нравственном отношении... Пока проповедуете Вы нищенство и милосердие, Запад дошел до другой крайности. Золя говорит, что христианство отжило свой век и доказал нам, что милосердие не ведет к справедливости, а Вы отдаете без борьбы всю Россию в руки этого Запада. Он и так уже без выстрела одолевает нас и материально и нравственно грабит нас". Продолжая поклоняться Толстому как гениальному художнику, Полонский порицал его за нападки "на предрассудки нашего темного люда", в которых Полонский видел "признаки народного самобытного творчества".
"Я всю жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь", - писал в конце жизни Полонский. Он и принадлежит всем, кто умеет слушать "музыку природы" и "музыку души", как слышал их Полонский.
Билет 14.
За сорок с лишним лет писательской деятельности Полонский написал и опубликовал огромное количество стихов, несколько поэм, а также очерки, рассказы, повести, романы, пьесы и даже либретто для опер, успел выпустить собрание своих сочинений в десяти томах. Но по прошествии века можно констатировать, что вклад Полонского в русскую поэзию измеряется не томами им написанного, а лишь книжкой избранной лирики. А конкретнее, те немногие стихотворения, написанные в жанре баллады, а также городского и цыганского романса – "Затворница", "Колокольчик", "Последний вздох", "Песня цыганки" ("Мой костер в тумане светит"). Все они стали народными песнями, потому, что именно в них Полонский сумел сказать свое, неповторимое слово, пусть и негромкое, но удивительно обаятельное в своей задушевной и очень простой интонации, по которой его не спутаешь ни с кем из русских классиков XIX в.
- "Поэтизация обыденного":образ дома, идеализация простых, "патриархальных" ценностей жизни частного человека. Образ дома часто возникает в его художественном мире в окружении то бескрайних, унылых пространств бесконечной дороги ("Дорога", ‹1842›), то холодной зимней ночи, с ее "пасмурным призраком луны" и "воем протяжным голодных волков" ("Зимний путь", ‹1844›), "мутным дымом облаков и холодной далью" ("Колокольчик"), то посреди разбушевавшейся морской стихии ("Качка в бурю", 1850). И всегда этот дом представляется своего рода счастливым островком простого человеческого счастья, уюта, довольства, – островком, невесть как сохранившимся в окружающем его океане бед и страданий, посреди неустроенного и такого неуютного, равнодушного к человеку мира:
Свет лампады на подушках;
На гардинах свет луны…
О каких-то все игрушках
Золотые сны. ("Качка в бурю")
Образ дома дается через традиционно романтические мотивы сна, воспоминания, грезы. Для лирического героя это нечто простое, естественное и одновременно такое далекое и недостижимое. "Пробуждение" в таких сюжетах, как правило, для героя означает утрату мечты и возвращение в холодный и бесприютный мир:
Что за жизнь у меня! И тесна, и темна
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!…
Что за жизнь!… полинял пестрый полога цвет.., –
так завершается сон лирического героя "Колокольчика". Зародившись в пространстве "дома", мечта героя, описав круг, в этом же пространстве и погибает. Композиционное кольцо лишь резче подчеркивает эту замкнутость идеала в сфере "конечного", отсутствие прочной и благой связи между своим "уголком" и "большим миром" в поэзии Полонского, проблематичность выхода в "бесконечное". Впечатление "замкнутости" и трагической отгороженности усиливается из-за подчеркнутого внимания поэта к отдельным деталям домашней обстановки, которые словно срослись с романтическим образом "уголка", став его своеобразной поэтической эмблемой. Такова знаменитая "занавесочка" – характернейший атрибут романтической мечты и в этом, и в некоторых других стихотворениях Полонского. Собственно, по одной этой детали уже можно проследить эволюцию мечты лирического героя: если в начале это – "цветная занавеска", то в момент краха – "полинял пестрый полога цвет". Таким образом, называя Полонского "поэтом обычного", всегда нужно иметь в виду, что это была поэтизация, как правило, в рамках "конечного".
Сила таланта Полонского заключалась в том, что даже в "приземленном", будничном мире ценностей частного человека он умеет видеть и находить трагизм необычайной силы, подлинную драму человеческих чувств, тем самым раздвигая узкие рамки домашнего мирка, освещая его светом высокой поэзии.
Полонский нередко прибегает к новаторским для того времени приемам стихосложения. Он любит метрически удлиненные строки, предпочтительно с женской и дактилической рифмой. Строфа же часто завершается неравностопной строкой, как бы резко обрывая лирическую эмоцию:
Бог с тобой! Я жизнь мою
Не сменяю на твою…
Но ты мне близка, безродная,
В самом рабстве благородная,
Не оплаченная
И утраченная. ("Старая няня")
Встречаются у Полонского и редкие примеры тонического стиха (дольник в стихотворении "На берегах Италии", 1858), но опять-таки не во внешнем новаторстве метрики заключается обаяние стиха Полонского, а в его внутреннем ритмическом строе, как, например, в "Зимнем пути" или "Колокольчике", где поэт достигает впечатления убаюкивающего, мерного покачивания дорожной кибитки, которое навевает усталому путнику неясные, проплывающие, как легкие облака, грезы и сны…
Лирика Я. П. Полонского, несомненно, предвещала те закономерности развития русской поэзии, которые во всей своей силе проявят себя в 1880–1890-е годы, а затем и в начальную символистскую эпоху. Это, во-первых, новый идеал поэта, не как Пророка и Учителя, а как "ровни" всем "униженным и оскорбленным». Во-вторых, это романсовые интонации, предпочитающие всестороннему воссозданию психологической ситуации легкий намек на нее в ряде сжатых и выразительных внешних деталей. Неповторимая мелодика стиха Полонского будет остро ощущаться А. Блоком, а И. Бунин один из своих рассказов так и назовет первой строчкой из баллады "Затворница" – "В одной знакомой улице", задавая тем самым безошибочно узнаваемый лирический камертон своему пронизанному ностальгией по ушедшей культурной эпохе повествованию.
Зимний путь
Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.
За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
А.Ф. Захаркин
Свыше полувека звучал оригинальный поэтический голос Якова Петровича Полонского. Поэт понимал, что настоящий писатель должен быть связан кровными узами с народом.
Писатель, если только он Волна, а океан - Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, по Полонскому,- «нерв великого народа», и он «не может быть не поражен, когда поражена свобода».
Первый сборник стихов Полонского «Гаммы» появился в 1844 году, когда поэт только что окончил Московский университет.
С этого времени он не прекращает литературной деятельности. Служа в Одесской таможне, Полонский сближается с А.С. Пушкиным, поэтом Н.Ф. Щербиной. Переехав вместе с канцелярией наместника М.С. Воронцова на Кавказ в 1846 году, поэт становится редактором газеты «Закавказский вестник», где печатает произведения разных жанров. Кавказские впечатления определили содержание многих поэтических созданий Полонского. Сборник стихов поэта «Сазандар» (грузинское певец) появился в 1849 году. В нем живописно и реалистически описываются кавказские будни.
Живые уличные сценки даны в «Прогулке по Тифлису», повседневная жизнь Грузии отображена в стихотворениях «Выборы Уста-Баши», «Татарка», «Горная дорога в Грузии», «Старый сазандар». В динамическом стихе этого сборника Полонский широко использует переносы, приближающие повествование к разговорной речи.
Широкую популярность Полонскому принесли его лирические стихотворения и романсы. Лиризм его стихов оказал воздействие на поэтов последующих поколений, в частности на Александра Блока, который признавался, что ему с детства запомнились строки Полонского:
Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят,
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
(Автобиография Блока)
Простота, ясность, эмоциональная выразительность свойственны многим стихотворениям Полонского. В особенности они чувствуются в произведениях, ставших народными песнями - «Затворница» и «Песня цыганки». В «Затворнице» воссоздается поэтический образ девушки, в которую романтически влюблен лирический герой:
Никто не знал, какая там Затворница жила,
Какая сила тайная Меня туда влекла.
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Простота в этом стихотворении почти фольклорная. Постоянные эпитеты сила тайная, чудо-девушка, заветный час, птицы вольные, задушевность интонации повествования покоряют читателя.
«Песня цыганки» - шедевр интимной лирики Полонского. Искренность, простота, задушевность отличают этот романс, написанный в «цыганском» духе.
На прощанье шаль с каймою Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою Мы сходились в эти дни.
Развивая лирическую тему, поэт использует разговорные интонации, народную речь:
Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя,
На коленях у тебя!
Поэт явно ориентировался на народное творчество, употребляя постоянные эпитеты милый мой, друг милый, кибитка кочевая.
Спокойный и в описании любви девушки-цыгаики создает особый эмоциональный колорит. Полонский расширял возможности романса, сближая его жанром философской думы.
Некоторые стихотворения Полонского, отличающиеся простотой в эмоциональной насыщенностью, образностью языка, стали хрестоматийными. Наибольшей известностью пользовалось стихотворение «Солнце и Месяц»:
Кто и как себя ведет,
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.
Если ж нет, взойдет в тумане,
Ветер дунет, дождь пойдет,
В сад гулять не выйдет няня
И дитя не поведет.
Сам Полонский писал: «Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал на долю моей фантазии „Солнце и Месяц", приноровленной к детскому возрасту. Его заучивали наизусть, в особенности дети» (Ежемесячное литературное приложение к журналу «Нива», 1898, № 12).
В 1860-1870-е годы усилилась гражданская направленность произведений поэта. В это время он сближается с сотрудниками демократических журналов «Современник», «Русское слово». Несколько позднее Полонский устанавливает связь и с журналом «Отечественные записки». И хотя в идейных позициях Полонского нет четкости и определенности, хотя он и не поднимается до протеста, обличение царящего зла приобретает особое звучание.
В стихотворении «И.С. Аксакову», созданном еще в пятидесятых годах, он писал:
Полонский хотел идти дорогой поэта-гражданина. Он все чаще обращался к темам современности. Так, на крестьянскую реформу 19 февраля 1861 года Полонский откликнулся стихотворениями «Признаться сказать, я забыл, господа...», «Беглый».
В стихотворении «Беглый» поэт рассказывает о судьбе Крестьянина, который сбежал от помещика и нашел приют в разбойничьей шайке:
Как мне волю-то объявят господа,
Я с воды хмелен не буду никогда;
Как мне землю-то отмерят на миру -
Я в кармане-то зашью себе дыру.
Цепи, опутавшие мужика, о которых так метко писал Некрасов, остались для крестьян и после реформы, и «беглый» увидел призрачность обещанных царем свобод:
Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока.
Хоть родное-то гнездо недалеко,-
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в дому хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить.
Остро реагируя на нищенскую, голодную жизнь мужика, поэт пишет стихотворение «В степи», где рисует образ труженика-крестьянина:
В этом приволье...
Шел босоногий мужик, клячу свою понукая;
Вытянув шею - кляча тянула соху.
Дактилический размер вызывает ассоциации с некрасовскими стихотворениями. Образ крестьянина поэт создавал с симпатией, с болью душевной говорил о тяжелой деревенской жизни, о нравственной чистоте селян. Крестьянский двор, соломой крытый, скирды, лачуги или серое поле, когда «дорога далека», звучит тоскливая ямщицкая песня, - вот характерные для Полонского мотивы.
Своеобразие крестьянской речи Полонский сохранил в стихотворении «Старой няне», рассказывая о судьбе своей няньки Матрены:
Ты девчонкой крепостной
По дороге столбовой
К нам с обозом дотащилася,
Долго плакала, дичилася.
Славной няней ты была,
Скоро в роль свою вошла:
Теребила меня за ворот,
И гулять водила за город...
Одним из лучших стихотворений Полонского является «Узница». В нем слышится непосредственный отклик поэта на дело Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова 24 января 1878 года.
Написанное как бы на одном дыхании, оно изобилует риторическими восклицаниями:
Что мне она! - не жена, не любовница И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая Спать не дает мне всю ночь!
Героиня-узница и тюремная обстановка обрисованы поэтом впечатляюще:
С койки глядят лихорадочно-знойные Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные Космы тяжелых волос.
Не шевелятся ни губы, ни бледные Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета И без надежд впереди...
Официальная печать всеми силами старалась оболгать революционеров. Вопреки утверждениям благонамеренных писак, Полонский открыто выразил свои симпатии революционерке.
Высокой художественностью отличаются такие лирические миниатюры Полонского, как «Качка в бурю», «Саят-Нова», «Поцелуй», «На железной дороге», «В телеге жизни», «Вызов», «Холодная любовь».
Правдивость чувств привлекает в стихотворении «Поцелуй»:
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я таил мои страсти, был робок и нем,
И за ту, что меня обожгла без огня
И смеялась, и долго терзала меня,
И за ту, чья любовь мне была бы щитом...
Сила чувства подчеркивается поэтом синтаксической фигурой я недаром.., я целую.., я таил...
Полонский умел поэтизировать любовь. В его стихах женщина - друг и помощник лирического героя, она близка ему по мыслям и стремлениям. Любовь объединяет людей, вдохновляет их на подвиг, самопожертвование. Это высокое чувство воспето поэтом в стихотворениях «Н.А. Грибоедова», «Когда заботами иль злобой дня волнуем» и других. В первом из дих раскрыт богатый духовный мир Нины Чавчавадзе, полюбившей Грибоедова. Полянский удачно избрал форму - лирический монолог героини:
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму...
Грибоедов в Персии. Бесконечное ожидание встречи с ним, и вдруг роковая весть о его гибели.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!
Полонский чуть видоизменил надпись Нины на могилё Грибоедова. На боковой стороне памятника поэту на горе Мтацминда в Тбилиси высечено: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? Незабвенному его Нина». Нина Александровна Грибоедова знала, как много сделал ее муж для сближения России и Грузии. В стихотворении Полонский изложил основные факты из жизни Н.А. Грибоедовой и великого драматурга, нарисовав их обаятельные образы.
Полонский писал и поэмы. Однако в них он не поднялся до тех высот, которых он достиг в лирике. Лучшая из поэм - «Кузнечик-музыкант» (1859). В ней Полонский рассказывает о своих взаимоотношениях с петербургским обществом, пустоту и праздность которого поэт ненавидит.
Отрицательное отношение к высшему свету Полонский выразил и в таких поэмах, как «Мими», «Свежее преданье», насыщенных автобиографическим материалом.
Полонский завоевал популярность у своих современников чистотой и строгостью языка. Некоторые его стихи народны по своей сути. В них он часто употребляет постпозитивную частицу- то, выражения в народном духе. Это придает сказовую манеру стиху, передает особую тональность народного говора.
Почти фольклорная простота - отличительная особенность многих стихотворений Полонского. Постоянные эпитеты (сила тайная, чудо-девушка, заветный час), задушевность интонации повествования способствовали широкому распространению некоторых стихотворений в народе. Простота у поэта поэтическая. Сам Полонский писал об этом: «...Простота и прозаичность - две вещи разные, и что нужно особенное поэтическое чутье, чтоб писать как можно проще, не впадая при этом в прозаичность, над которой так трунил Пушкин, прочитавши рассказ Жуковского, написанный белыми стихами» (Письма Я.П. Полонского к А.В. Жиркевичу, - «Русская литература», 1970, № 2). Полонский своим творчеством утверждал, что богатства русского языка освоены далеко не полностью.
Простыми, задушевными словами Полонский говорил о родине, о родной природе. И этим поэт близок современному читателю.
Л-ра: Русская речь. – 1975. - № 1. – С. 31-36.
Ключевые слова: Яков Полонский, критика на творчество Полонского, критика, скачать критику, скачать бесплатно, реферат, русская литература 19 века, поэты 19 века
И жизнь казалась мне суровой глубиною.
С поверхностью, которая светла.
Яков Полонский
Полонский Яков Петрович родился 18 декабря 1819 года в Рязани в небогатой дворянской семье. Окончил Рязанскую гимназию (1831—38). В 1838—44 учился на юридическом факультете Московского университета.
Первые поэтические попытки гимназиста Полонского отметил еще основоположник русского романтизма Василий Жуковский.
Печататься начал в 1840. В студенческие годы сотрудничал в «Москвитянине», в альманахе «Подземные ключи» (1842). Первый сборник стихов — «Гаммы» (1844). По окончании университета Полонский жил в Одессе, где опубликовал «Стихотворения 1845 года», получившие отрицательный отзыв Белинского.
Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет - и по земле
Тьма стелется, как дым.
Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви - и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.
В сороковые годы Полонский стал заметной фигурой в кругу литераторов, продолжавших пушкинскую поэтическую традицию. Некоторые преисполненные лиризма стихи Якова Петровича были положены на музыку Чайковским и другими известными русскими композиторами. А шедевр творчества поэта - «Песня цыганки» - стал народной песней.
В 1846 Полонский — на службе в Тифлисе, где сблизился с Щербиной, Ахундовым. По грузинским впечатлениям написана книга стихов «Сазандар» (1849). В Грузии Полонский начал писать прозу (статьи и очерки этнографического содержания, близкие к натуральной школе) и драматические произведения («Дареджана Имеретинская», 1852). С 1851 Полонский жил в Петербурге, выезжая иногда за границу.
Гипотеза
Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила,-
И в бездне, как вихрь, закружились светила:
Певучей струной каждый луч их дрожит,
И жизнь, пробужденная этою дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку божью,
Кто разумом светел, в ком сердце горит.
"Ты по преимуществу лирик, с неподдельной, более сказочной, чем фантастической жилкой", - писал Тургенев Полонскому. Прослушав стихотворение "Последний вздох", потрясенный лирической силой этого маленького шедевра поэта, Афанасий Фет писал другу: "Недавно, как-то вечером, я вслушался в чтение наизусть... давно знакомого мне стихотворения:
"Поцелуй меня,
Моя грудь в огне..."
и меня вдруг как-то осенило всей воздушной прелестью и беспредельным страданием этого стихотворения. Целую ночь оно не давало мне заснуть, и меня все подмывало... написать тебе ругательное письмо: "Как, мол, смеешь ты, ничтожный смертный, с такою определенностью выражать чувства, возникающие на рубеже жизни и смерти... ты... настоящий, прирожденный, кровью сердца бьющий поэт".
Дорожка в парке. Этюд Я.П.Полонского (масло),1881
Психологическая новелла "Колокольчик" не оставляла равнодушными никого из его современников, а Ф.М. Достоевский ввел строки из нее в свой роман "Униженные и оскорбленные". В словах героини Наташи Ихменевой выражено чувство самого писателя: "Какие это мучительные стихи... и какая фантастическая, раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор, - вышивай, что хочешь"
«По моим стихам можно проследить всю мою жизнь» .
Так говорил о своём творчестве русский поэт Яков Полонский.
ПОЭТУ-ГРАЖДАНИНУ
О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликаяся, идет,
Хоть прокляни — не обернется...
И верь, усталая, в досужий час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
Чем музе ропщущей твоей.
Хоть плачь — у ней своя задача:
Толпа-работница считает каждый грош;
Дай руки ей свои, дай голову,— но плача
По ней, ты к ней не подойдешь.
Тупая, сильная, не вникнет
В слова, которыми ты любишь поражать,
И к поэтическим страданьям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.
Оставь напрасные воззванья!
Не хныкай! Голос твой пусть льет
ся из груди,
Как льется музыка,— в цветы ряди страданья,
Любовью — к правде нас веди!
Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
К познанью нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты...

И. Н. Крамской. Портрет поэта Полонского. 1875
Пусть говорят, что наша молодёжь
Поэзии не знает — знать не хочет, —
И что её когда-нибудь подточит
Под самый под корень практическая ложь, —
Пусть говорят, что это ей пророчит
Один бесплодный путь к бесславию, что ей
Без творчества, как ржи без тёплых, ясных дней
Не вызреть…
Выхожу один я в чисто поле
И чувствую — тоска! и дрогну поневоле.
Так сыро, — сиверко!..

И что это за рожь!
Местами зелена, местами низко клонит
Свои колосики к разрыхленной земле
И точно смята вся; а в бледно-серой мгле
Лохмотья туч над нею ветер гонит…
Когда же, наконец, дождусь я ясных дней!
Поднимется ль опять дождём прибитый колос?
Иль никогда среди родимых мне полей
Не отзовётся мне ретивой жницы голос,
И не мелькнёт венок из полевых цветов
Над пыльным золотом увесистых снопов?!.
1875
Репин И. Е. Портрет Полонского. 1896
Век девятнадцатый - мятежный, строгий век -
Идет и говорит: «Бедняжка человек!
О чем задумался? бери перо, пиши:
В твореньях нет творца, в природе нет души…
Последний период творчества Полонского ознаменован интенсивными поисками в различных прозаических жанрах. Это крупные романные формы «Дешевый город» (1879), «Крутые горки», «Под гору» (1881), «Проигранная молодость» (1890), развивающие традиционную для Полонского тему становления личности человека в сложных жизненных обстоятельствах, повести «Нечаянно» (1878) и «Вадим Голетаев» (1884), посвященные разоблачению психологии русского обывателя, рассказы «На высотах спиритизма», «Дорогая елка», «Галлюцинат» (1883), затрагивающие проблемы подсознательного в психике человека, волшебные сказки «О том, как мороз в избе хозяйничал», «Три раза в ночь зажженная свеча» (1885), мемуарные хроники «И.С.Тургенев у себя» (1884), «Старина и мое детство», «Школьные годы» (1890), изображающие жизнь провинциальной Рязани 30-х годов XIX столетия, «Мои студенческие воспоминания» (1898), воссоздающие духовную атмосферу Московского университета эпохи сороковых.
"Поляна в парке". Этюд Я.П.Полонского (масло), 1881
С колыбели мы, как дети,
Вплоть до смертного одра,
Ждем любви, свободы, славы,
Счастья, правды и добра.
Но в любви мы пьем отраву,
Но свободу продаем...
Клеветой марая славу,
Мы добро венчаем злом!-
Счастьем вечно недовольны,
Правдой вечно смущены,
В тишину мы просим бури,
В бурю просим тишины.
1884
Полонский выступал как публицист, литературный критик, полемизируя с Л.Н.Толстым в статье «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей Л. Н. Толстого» (1895), интересно высказываясь о взаимоотношениях литературы и критики в эссе «Зоил и критик», «О законах творчества» (1877), анализируя творчество Фета, Григорьева, Жемчужникова.
Портрет И. С. Тургенева работы Я. П. Полонского (масло), 1881
Мемуарное наследие выдающегося рязанского поэта Якова Полонского являет собой яркую страницу отечественной культуры. Особое место в мемуаристике Полонского занимают воспоминания о Тургеневе. Очерк «И.С.Тургенев у себя в его последний приезд на родину» содержит ценнейший материал, необходимый для более полного понимания личности великого русского романиста. Оригинальность воспоминаний Полонского является то, что мемуарист не стремится к помпезности и монументальности в создании образа Тургенева.
Мемуары Полонского «И.С.Тургенев у себя в его последний приезд на родину» стали заслуженной данью уважения и любви великому русскому писателю и самому близкому другу.
ЯКОВУ ПОЛОНСКОМУ
Что ни пошлет господь,
Тому и рад поэт,
В безвестности почивший много лет,
В безвременье ушедший,
А потом, оттуда указующий перстом.
Полонский, ты и вправду, замечательный поэт!
Тебе слагать бы вирши много лет,
Тебе бы жить вне времени, пространства —
И говорить с трибуны о русском постоянстве...
Уж сколько времени прошло, но не меняется лицо,
Лицо печали и скорбей,
Лицо Руси — страны моей!
Полонский Яков Петрович (1819-1898) – русский поэт-романист, публицист. Его произведения не имеют столь масштабного значения, как Некрасова или Пушкина, но без поэзии Полонского русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. В его стихах глубоко отображен мир России, глубина и сложность души русского народа.
Семья
Яков появился на свет 6 (18) декабря 1819 года в центральной части России – городе Рязани. В большой семье он был первенцем.
Его отец, Полонский Петр Григорьевич, происходил из обедневшего дворянского рода, был чиновником-интендантом, состоял на канцелярской службе у городского генерал-губернатора.
Мама, Наталья Яковлевна, принадлежала древнему русскому дворянскому роду Кафтыревых, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием семерых детей. Она была очень образованной женщиной, любила читать и записывать в тетрадки романсы, песни и стихи.
Гимназия
Сначала мальчик получал домашнее образование. Но, когда ему исполнилось тринадцать лет, умерла мама. Отец был назначен на казенную должность в другой город. Он переехал, а дети остались на попечении родных Натальи Яковлевны. Они определили Якова на обучение в Первую рязанскую мужскую гимназию. В провинциальном городе это учебное заведение считалось на тот момент центром культурной жизни.

Здание 1-ой мужской гимназии в Рязани, где учился Яков Полонский
В то время на пике славы были русские поэты Александр Пушкин и Владимир Бенедиктов. Подросток Полонский зачитывался их стихами и сам понемногу начал сочинять, тем более, что заниматься рифмованием тогда стало модным. Преподаватели отмечали, что юный гимназист обладает явным поэтическим талантом и проявляет в этом отличные способности.
Знакомство с Жуковским
Решающее влияние для выбора Полонским дальнейшего литературного жизненного пути оказала встреча с поэтом, одним из основоположников романтизма в русской поэзии Жуковским Василием Андреевичем.
В 1837 году в Рязань приехал цесаревич Александр II, будущего императора принимали в мужской гимназии. Руководитель учебного заведения поручил Якову сочинить два куплета приветственных стихов. Один куплет гимназистский хор исполнял под мелодию «Боже, царя храни!», которая стала гимном России за четыре года до этого.
Прием престолонаследника прошел успешно, и вечером руководитель гимназии устроил по этому поводу торжество. На мероприятии Яков встретился с автором слов гимна Жуковским, который сопровождал цесаревича в поездке. Маститый поэт хорошо отозвался о стихотворном творении Полонского. А когда гости уехали, директор гимназии вручил Якову от них золотые часы. Такой подарок и хвала Василия Андреевича закрепили мечту Полонского связать свою жизнь с литературой.
Годы учебы в университете
В 1838 году Яков поступил в Московский университет. Он стал студентом юридического факультета, но по-прежнему писал стихи, принимал участие в университетском альманахе «Подземные ключи». Очень восхищали Полонского лекции декана историко-филологического факультета Тимофея Николаевича Грановского, которые существенно повлияли на формирование мировоззрения студента.

Во времена учебы общительный и привлекательный Яков быстро находил общий язык с сокурсниками. Особенно сблизился с Николаем Орловым, сыном генерал-майора, участника Наполеоновских войн Михаила Федоровича Орлова. В их доме по вечерам собирались самые известные представители науки, искусства и культуры России. С некоторыми из них Полонский завел настоящую долгую дружбу – актером Михаилом Щепкиным, стихотворцами Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, философом Петром Чаадаевым, историками Константином Кавелиным и Сергеем Соловьевым, писателями Михаилом Погодиным и Алексеем Писемским.
Яков читал на вечерах свои произведения, а новые друзья помогали ему с их публикацией. Так, при помощи знакомых в 1840 году его стихи напечатали в издании «Отечественные записки». Литературные критики (в том числе и Белинский) высоко оценили первые поэтические работы молодого стихотворца, но прожить лишь за счет сочинительства было невозможно. Студенческие годы Полонского проходили в постоянной нужде и бедности. Ему приходилось подрабатывать, давая частные уроки и занимаясь репетиторством.
Вместо положенных четырех лет Яков учился в университете на год дольше, так как на третьем курсе не смог сдать экзамен по римскому праву декану юридического факультета Никите Ивановичу Крылову.

В период университетской учебы особенно тесные дружественные отношения зародились между Яковом и Иваном Тургеневым. Долгие годы они высоко оценивали литературный талант друг друга.
Кавказский период
Бедственное положение стало главной причиной того, что по окончании университета осенью 1844 года Яков покинул Москву. Хоть в «Отечественных записках» и вышел первый сборник его стихов «Гамма», денег по-прежнему не было. Полонскому представился шанс устроиться на работу в таможенное ведомство в Одессе, и он этим воспользовался. Там Яков жил у брата известного теоретика анархизма Бакунина и часто бывал в доме наместника Воронцова. Жалования не хватало, снова приходилось давать частные уроки.
Весной 1846 года ему предложили канцелярскую должность у кавказского наместника графа Воронцова, и Яков уехал в Тифлис. Здесь он состоял на службе до 1851 года. Полученные на Кавказе впечатления, история борьбы России за укрепление южных границ, знакомство с обычаями и традициями горцев навеяли поэту его лучшие стихи, которые и принесли ему всероссийскую известность.
В Тифлисе Полонский вел сотрудничество с газетой «Закавказский вестник» и выпустил сборники поэзии «Сазандар» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851). Здесь же он печатал рассказы, очерки, научные и публицистические статьи.

В период проживания на Кавказе Яков увлекся живописью. Способности к этому виду искусства были замечены у него еще во время учебы в рязанской гимназии. Но именно кавказские окрестности и пейзажи вдохновили Полонского, он очень много рисовал и сохранил это увлечение до конца дней.
Европа
В 1851 году поэт переехал в столицу. В Петербурге он расширил круг своих знакомств в литературном сообществе и много трудился над новыми произведениями.
В 1855 году выпустил следующий поэтический сборник, который с большой охотой публиковали самые популярные литературные издания России – «Отечественные записки» и «Современник». Но на полученные гонорары у поэта не получалось вести даже самое скромное существование. Полонский устроился на работу в качестве преподавателя на дому к детям петербургского губернатора Н. М. Смирнова.

Пейзаж Кавказа, нарисованный Яковом Полонским
В 1857 году губернаторское семейство отправилось в Баден-Баден, с ними уехал и Яков. Он путешествовал по европейским странам, учился рисованию у живописцев Франции, свел знакомства с представителями иностранной и русской литературы (в круг его новых знакомых входил и знаменитый Александр Дюма).
В 1858 году Яков отказался от должности учителя губернаторских детей, так как не смог больше ладить с их матерью – вздорной и фанатически религиозной Александрой Осиповной Смирновой-Россет. Он попытался остаться в Женеве и заняться живописью. Но вскоре познакомился с известным литературным меценатом графом Кушелевым-Безбородко, который как раз собрался организовать в Петербурге новый журнал «Русское слово». Граф предложил Якову Петровичу занять должность редактора.
Жизнь и работа в Петербурге
В конце 1858 года Полонский вернулся в Петербург и начал работу в «Русском слове».
В 1860 году поступил на службу в Комитет иностранной цензуры на должность секретаря. С 1863 года занял в этом же комитете пост младшего цензора, проработал на одном месте до 1896 года.

В 1897 году Якова Петровича назначили членом Совета главного управления по делам печати.
В конце жизни в своем творчестве поэт все чаще обращался к религиозно-мистическим темам (старость, смерть, мимолетное человеческое счастье). В 1890 году вышел его последний сборник стихов «Вечный звон». Наиболее значимым произведением Полонского считается шуточная поэма-сказка «Кузнечик-музыкант».
Личная жизнь
Со своей первой женой Еленой Устюжской (1840 года рождения) поэт познакомился во время путешествия по Европе. Она была дочерью француженки и старосты русской церкви в Париже Василия Кузьмича Устюжского. Елена совсем не знала русского языка, а Яков – французского, но брак был заключен по большой любви. В 1858 году Полонский привез молодую супругу в Петербург.

Но следующие два года стали самыми тяжелыми в жизни поэта. Он упал и получил серьезную травму, от ее последствий не смог избавиться до конца дней и передвигался только при помощи костылей. Вскоре заболела тифом и скончалась его жена. Через несколько месяцев умер их шестимесячный сын Андрей.
Долгие годы он не мог оправиться от горя, спасало только творчество. В 1866 году Яков женился второй раз на Жозефине Антоновне Рюльман (1844 года рождения). В этом браке родилось трое детей – сыновья Александр (1868) и Борис (1875) и дочь Наталья (1870). Жозефина обладала талантом скульптора и активно принимала участие в художественной жизни Петербурга. В их доме часто проводились вечера творчества, куда приходили известные в России писатели и художники.
Смерть
Умер Яков Петрович 18 (30) октября 1898 года. Его похоронили в селе Льгово Рязанской губернии в Успенском Ольговом монастыре. В 1958 году останки поэта перезахоронили на территории Рязанского кремля.